Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке, среди высоких плакучих берез, показалась старая сенная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца.
Позади был целый день напрасных блужданий по дремучим зарослям Синельги. Сена на Верхней Синельге (а я забрался в самую глушь, к порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус) не ставились уж несколько лет. Травища — широколистый, как кукуруза, пырей да белопенная, терпко пахнущая таволга — скрывала меня с головой, и я, как в детстве, угадывал речную сторону по тянувшей прохладе да по тропам зверья, проложенным к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого ивняка. Русло речки перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской.
При виде избушки я позабыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез: и сама покосившаяся изба с замшелыми, продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые, поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное огневище варницы, первобытным оком глянувшее на меня из травы…
А стол-то, стол! — осел, еще глубже зарылся своими лапами в землю, но все так же кремнево крепки его толстенные еловые плахи, тесанные топором. По бокам — скамейки с выдолбленными корытцами для кормежки собак, в корытцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя.
Сколько раз, еще подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь немудреной крестьянской похлебкой после страдного дня! За ним сиживал мой отец, отдыхала моя мать, не пережившая утрат последней войны…
Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола сплошь изрезаны, изрублены. Так уж повелось исстари: редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких тут только знаков не было! Кресты и крестики, ершистые елочки и треугольники, квадраты, кружки… Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и бревна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик. Потом пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди них все чаще замелькала пятиконечная звезда…
Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв… Да ведь это же целая летопись Пекашина! Северный крестьянин редко знает свою родословную дальше деда. И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях, прошедших по пекашинской земле.
Вокруг меня пели древнюю, нескончаемую песню комары, тихо и безропотно осыпались семенники перезрелых трав. И медленно, по мере того как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо мной начали оживать мои далекие земляки.
Вот два давнишних полуискрошившихся крестика, вправленных в веночек из листьев. Должно быть, когда-то в Пекашине жил парень или мужик, который и букв-то не знал, а вот поди ж ты — сказалась душа художника. А кто оставил эти три почерневших перекрестья, врезанных на диво глубоко? Внизу маленький продолговатый крестик, прочерченный много позже, но тоже уже почерневший от времени. Не был ли человек, носивший родовое знамя трех перекрестий, первым силачом в округе, о котором из поколения в поколение передавались были и небылицы? И как знать, может, какой-нибудь пекашинский паренек, много-много лет спустя, с раскрытым ртом слушая восторженные рассказы мужиков о необыкновенной силе своего земляка, с сожалением поставил крестик против его знамени.
Весь захваченный расшифровкой надписей, я стал искать знакомых мне людей. И нашел.
Содержание
Л Т М
Буквы были вырезаны давно, может еще тогда, когда Трофим был безусым подростком. Но удивительно: в них так и проглядывал характер Трофима. Широкие, приземистые, они стояли не где-нибудь, а на средней плахе столешницы. Казалось, сам Троха, всегда любивший подать товар лицом, топал посередке стола, по-медвежьи вывернув ступни ног. Рядом с инициалами Трофима размашисто и твердо выведены прямые
С С А
Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреяновича. А Софрон Игнатьевич, тот, как и в жизни, обозначил себя крепкими, но неказистыми буквами в уголку стола.
У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте:
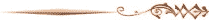
Поделиться:![]()
![]()
![]()
![]()
 Иван Сергеевич Тургенев. «Тайны человеческой жизни велики, а любовь — самая недоступная из этих тайн», — писал Иван Тургенев. Через всю жизнь он пронес любовь к певице Полине Виардо. А рядом пылала еще одна яркая страсть — его старшего брата Николая и рижанки Анны Шварц.
Иван Сергеевич Тургенев. «Тайны человеческой жизни велики, а любовь — самая недоступная из этих тайн», — писал Иван Тургенев. Через всю жизнь он пронес любовь к певице Полине Виардо. А рядом пылала еще одна яркая страсть — его старшего брата Николая и рижанки Анны Шварц.
Ради нее, «безродной» немки «без гроша за душой», камеристки матери, он пожертвовал блестящей военной карьерой, положением в свете, деньгами, отношениями с матерью.
Кто она была, эта Анна Шварц, чем покорила Николая Тургенева? Попробуем разобраться…
Двойной портрет
Год рождения Анны Яковлевны Шварц неизвестен, ее письма не сохранились… Образ возлюбленной Николая Тургенева приходится восстанавливать по штришку, по фразе в воспоминаниях современников — мимолетных (кто же будет подробно обсуждать какую-то камеристку?) и противоречивых (от «мерзавки» до «прекрасной женщины»).
Мать братьев Тургеневых, Варвара Петровна, пишет про Анну — добрая, мол, но бестолковая. Ой ли? Она занималась шитьем белья и одежды для своей госпожи и ее воспитанницы Вареньки, в том числе их роскошных бальных платьев. Варвара Петровна была богата, вхожа в высший свет, и если ее устраивали услуги камеристки, значит, вкус и мастерство у девушки явно были.
О внешности Анны современники отзывались нелестно: «Весьма некрасивая собой, высокого роста, худая». И даже: «Страшенная была, как обезьяна, хоть и франтила сильно».
Сохранился портрет работы неизвестного художника, на котором Анна изображена с племянницей Наденькой, дочерью сестры Юлии. С него на нас смотрит немолодая (ей лет 35–37, что, по тем временам, немало), но весьма эффектная дама.
Ну и кому после этого верить? Одно ясно, Анна Яковлевна была личностью яркой — равнодушной никого не оставляла.  Анна Шварц с племянницей Надеждой. Неизвестный художник, 1850-е годы. «Музеи России»
Анна Шварц с племянницей Надеждой. Неизвестный художник, 1850-е годы. «Музеи России»  Николай Сергеевич Тургенев.
Николай Сергеевич Тургенев.  Варвара Петровна, мать Ивана и Николая Тургеневых. Усадьба Спасское-Лутовиново. В отделе рукописей и редких книг Академической библиотеки ЛУ хранятся письма Тургеневых. В отделе рукописей и редких книг Академической библиотеки ЛУ хранятся письма Тургеневых. Георг Шварц, профессор РПИ. Варенька Лутовинова-Богданович, сводная сестра Тургеневых.
Варвара Петровна, мать Ивана и Николая Тургеневых. Усадьба Спасское-Лутовиново. В отделе рукописей и редких книг Академической библиотеки ЛУ хранятся письма Тургеневых. В отделе рукописей и редких книг Академической библиотеки ЛУ хранятся письма Тургеневых. Георг Шварц, профессор РПИ. Варенька Лутовинова-Богданович, сводная сестра Тургеневых.
В огне пожара
…3 мая 1839 года в светлой просторной гостиной поместья Спасское-Лутовиново накрывали стол к ужину. Слуги расставили вазы с цветами, достали из буфета фарфоровые тарелки и фамильное серебро. Хозяйка, Варвара Петровна Тургенева, провожала старшего сына, Николая. Он заехал к маменьке на пару дней — по пути на ярмарку в Лебедянь, где должен был закупить лошадей для полка.
Хозяйка бросила последний взгляд на стол — все готово. И глазам своим не поверила: буфетчик начал складывать серебряные вилки и ложки в корзину, приговаривая:
— Кушать нельзя-с.
Барыня не успела отругать его — окна застелило кровавое зарево. Выбежав во двор, Варвара Петровна увидела, что полыхает левый флигель дома, где жила ее старенькая няня. На крыльце, освещенный пламенем, стоял ее сын Николай, держа на руках старушку.
Дворня начала выносить из дому вещи. Воспользовавшись суматохой, один из крестьян схватил шкатулку, в которой лежало 20 тысяч казенных рублей, выданных Николаю Сергеевичу на покупку лошадей, и был таков. Но Анна Шварц бросилась за ним, догнала и отняла добычу. Положив шкатулку к ногам хозяйки, она упала почти без чувств.
Таким эффектным было появление рижской немки на сцене семейной драмы Тургеневых, в которой на протяжении 30 с лишним лет она будет играть одну из главных ролей. Похоже, в ту страшную ночь и пробежала искра глубокого чувства между наследником громадного состояния и прислугой грозной барыни.
Так, во всяком случае, считает Варенька Богданович-Лутовинова, воспитанница Тургеневой, оставившая уникальные воспоминания о семье писателя.
Розы и угрозы
После пожара Николай Сергеевич частенько бывает в Спасском. «Анна Яковлевна у брата», — лаконично записывает в дневнике Иван Сергеевич. Матушка внимания не обращает. Пусть молодой барин развлекается…
…Парк усадьбы Спасское-Лутовиново не случайно кажется знакомым. Его тенистые аллеи, вековые деревья, клумбы с розами будто сошли со страниц романов Ивана Тургенева «Дворянское гнездо», «Месяц в деревне», «Отцы и дети». По этим дорожкам среди зарослей сирени, наверно, гуляли Николай и Анна, скрываясь от любопытных глаз и понимая, что не скрыться.
Зимой 1841 года Анна Яковлевна вдруг засобиралась в Петербург. Скорее всего, она уже ждала ребенка. Барыне объяснила — отец не дает паспорта, нужно ехать хлопотать. Это, кстати, важное указание. В то время в России женщинам в возрасте до 21 года паспорта выдавал отец. Получается, в 1841 году Анне Шварц еще не исполнился 21 год, то есть родилась она около 1820 года. Николаю было 25 лет.
На удивление, прощание барыни с камеристкой было теплым. Варвара Петровна даже приколола Анне на грудь букет цветов. Она наверняка понимает, почему Анна покидает усадьбу, но не оставляет попыток ее вернуть — на место.
«Милая Анета!… все тебя помним и по тебе скучаем», — пишет Варвара Петровна спустя полтора года. За ласковыми словами кроется угроза: «Можешь ты приехать, я очень рада. Не можешь, буду сожалеть. Но! Я только возьму свои меры».
Анна в Спасское не вернулась. И Варвара Петровна «взяла свои меры». На целых десять лет хватило.
Голодный и в рубище
Из столицы в Спасское доходят слухи, что Николай Тургенев живет с Анной Яковлевной по-семейному: ездит с нею в театр, в гости, принимает знакомых, «бесстыдно обнявшись с нею». Письмо матери сыну от 20 февраля 1843 года похоже на окрик: «Откажись от чувства, которое поведет тебя только к твоей гибели».
Не помогло…
Варвара Петровна призывает на помощь младшего сына: «Иван, поручаю тебе это дельце уладить. Оно мне сильно неприятно». Мать тревожат отнюдь не соображения нравственности:
«Пока свет ничего не имеет сказать вам в улику… я вами горжусь… Но! Ежели люди укажут на моего сына пальцами, как на человека, делающего непристойности, я откажусь от вас».
Николаю Сергеевичу пришлось выйти в отставку — в армии не приветствовали гражданские браки. Он поступил на службу в министерство внутренних дел. Жалованье было скромным. Родился сын, через год дочь, и они с Анной еле сводили концы с концами. Подрабатывали уроками: Николай Сергеевич учил детей французскому языку, Анна — музыке.
Иван Сергеевич хлопочет за брата перед матерью: мол, он ходит в рубище и голодает. Варвара Петровна непреклонна: «Брату твоему я денег не посылаю, я считаю срамом давать сыну деньги на содержание».
Летом 1843 года мать применяет сильное средство — на четыре месяца отправляет Николая за границу. «Как брат приедет, то я желаю, чтобы всякая связь, мне неприятная… была им уничтожена… Ежели он, как мне говорил, может умереть от этого, с радостью увижу его в гробу — мертвого, но чистого!» — пишет она Ивану.
Не помогло и это…
Николай вернулся в Петербург, к своей Анне, как возвращался к ней всегда — 30 с лишним лет.
Такие разные братья
«Мне нечем помянуть мое детство. Ни одного светлого воспоминания. Меня наказывали за всякий пустяк. Редкий день проходил без розог», — говорил Иван Сергеевич Тургенев много лет спустя.
У матери, Варвары Петровны Лутовиновой, детство тоже было тяжелым. Сирота в родной семье, она подростком сбежала из дому и выросла у равнодушного к ней дяди. Богатой наследницей она стала в 30 лет, старой девой по тем временам. Молодой и красивый муж даже не скрывал, что в Варваре Петровне его интересовали только ее деньги, а любовь он искал на стороне.
Увлечение отца очаровательной княжной Зинаидой описано в повести Ивана Тургенева «Первая любовь». Мать стала прототипом помещицы-самодура из рассказа «Муму».
Воспитанница Варенька оставила яркое описание братьев Тургеневых.
«Наружность Ивана Сергеевича… была чисто русская, а Николай Сергеевич был джентльмен английского типа — как сэр Рочестер из романа «Джейн Эйр», — пишет она.
«Иван Сергеевич отличался добродушным, безобидным юмором. Николай Сергеевич… хотя не был зол, но не прочь был при случае уколоть и даже язвительно подсмеяться.
Иван Сергеевич искал кому бы сделать добро, Николай Сергеевич не отказывался его сделать при случае или по просьбе.
Речь Ивана Сергеевича была не совсем плавная, он пришепетывал иногда, точно подыскивал выражения… Николай Сергеевич был блестящий рассказчик». Но он блистал остроумием только в кругу родных и близких. В обществе он в основном молчал, и барышни с ним скучали.
Такие разные, братья Тургеневы были похожи в одном — они страшно боялись своей матери. К моральной зависимости добавлялась материальная — они знали, что она может оставить их без гроша.
Иван и Николай Тургеневы получили прекрасное образование, в совершенстве владели французским, немецким, английским языком. Перед Николаем открывалась блестящая военная карьера, он служил в привилегированном конногвардейском полку в Петербурге. Иван учился в университете, подавал большие надежды.
И угораздило же обоих потерять голову от любви!
Сила проклятия
Летом 1845 года Варвара Петровна поехала в Петербург. Она знала, что у Николая и Анны есть дети, и пожелала их увидеть. Но родных своих внуков она не позвала в дом, а велела провести их мимо окон. Посмотрела на деток в лорнетку, заметила, что старший мальчик напоминает Николая Сергеевича в детстве, и больше о них не заговаривала.
Спустя некоторое время Варвара Петровна вдруг затребовала у сына портреты детей. «Видя в этом проблеск нежности, Николай Сергеевич тут же исполнил приказание матери», — пишет Варенька.
Но получилась очередная трагедия… Портреты доставили в дом, барыня взяла их и заперлась в комнате. И вдруг из-за закрытой двери раздался звон стекла и грохот. Это летели на пол детские портреты. «Выбросите их!» — велела барыня.
В ту же зиму все трое детей умерли. Николай Сергеевич всю жизнь был уверен, что проклятие Варвары Петровны свело малышей в могилу.
В западне
И все-таки Николай Сергеевич не оставлял надежды добиться у матери согласия на брак. На протяжении десяти (!) лет он пишет ей почтительные письма, повторяя, что без Анны ему не жить.
Наконец маменька соглашается. Но с условием, как же без него? Николай должен оставить службу, переселиться в Москву в купленный ею дом и взяться за управление имениями Тургеневых.
6 ноября 1849 года в Казанском соборе в Петербурге состоялось бракосочетание Анны Шварц и Николая Тургенева. Николай Сергеевич с женой и ее сестрой Катериной поселился в Москве, на Пречистенке, по соседству с домом матери.
Став законной женой, Анна часто выезжает в свет, и Варваре Петровне приятно слышать, что она изящно одета и хорошо держится. Она ни с кем не обсуждала невестку, но в дом ее по-прежнему не допускала. Зато сына Николая приглашала к себе каждое утро и держала до вечера.
В тихой гавани
Положение братьев становилось критическим. Содержать дом и прислугу Николаю было не по средствам. Иван Тургенев, влюбленный в Полину Виардо, большую часть времени проводил во Франции и тоже постоянно нуждался в деньгах.
Много лет сыновья просили мать выделить им пусть небольшой, но определенный доход. Наконец, кажется, уговорили. Варвара Петровна согласилась передать каждому из сыновей по деревеньке. Подарки оказались с подвохом — она продала будущие урожаи от сыновних владений на много лет вперед. После мучительного объяснения братья уехали в Тургенево, отцовское имение, на которое власть матери не распространялась.
Тургенево становится для братьев тихой гаванью. Иван Сергеевич с удовольствием работает, пишет свои знаменитые «Записки охотника». В окрестностях поместья писатель встретился с крестьянскими мальчиками, героями рассказа «Бежин Луг». Здесь же он задумал пьесу «Гувернантка», в которой появляется девушка с сильным характером и немецкой фамилией Баум, зарабатывающая на жизнь собственным трудом. Главные герои пьесы под другими именами перейдут в роман «Два поколения», который тоже останется незаконченным. Талантливый писатель потерпел неудачу, пытаясь перевести на язык литературы любовный сюжет, который много лет разворачивался на его глазах.
Николай Сергеевич с головой ушел в хозяйство. Расширил сад, построил оранжерею, где росли ананасы, персики, виноград, овощи, углубил пруд. В поместье была также и бумажная фабрика. Анна Яковлевна тоже при деле. «Хозяйка — каких нет», — отзывается о ней Иван Сергеевич.
«Мой брат… обожает свою жену с такой наивной нежностью, что на это приятно смотреть. По своему характеру она немного холодна и спокойно позволяет себя обожать».
Вскоре, однако, мнение писателя об Анне резко изменится. «Нестерпимо жестока, капризна, не развита и крайне развратна… ложась ночью в постель при лампе, она требует, чтобы горничная, раскрахмаленная и разодетая, всю ночь стояла посреди комнаты, но чтобы не произвести стука, босая», — делился он с друзьями. Недоумевал: «Каким образом брат мог привязаться к этой женщине?»
«Чета эта представляла одну из тех психологических загадок, которыми жизнь так любит испещрять свою ткань», — философски заметил поэт Афанасий Фет, который был близок к семье Тургеневых.
Совсем один
Варвара Петровна умерла через год после разрыва с сыновьями, в 1850 году, и братья Тургеневы стали наследниками огромного богатства. Большая часть досталась старшему, Николаю.
Наконец они могли ни в чем себе не отказывать. Николай Тургенев и Анна теперь часто бывают за границей. В 1863–1864 годах супруги жили в Дрездене. Иногда они встречаются с братом, и Иван Сергеевич отмечает, что они «поздоровели, потолстели» и что Николай по-прежнему влюблен в свою жену, «целует у нее ноги».
Страшно представить, каким ударом стал для Николая Сергеевича уход Анны Яковлевны. Это случилось 23 марта 1872 года. «Он ее обожал, жил только для нее, никаких других интересов не имел и теперь находится, действительно, в весьма жалком положении — так как он совершенно один, без семейства, без друзей», — сочувствует ему брат.
Вдовец ищет утешение в общении с родственниками Анны Яковлевны. В усадьбе Тургенево теперь много Шварцев, (Иван Тургенев в письме Флоберу назвал их «толпой мошенников»). Там живет сестра Анны, Юлия Федорова, ее дочь Надежда — та, что с Анной на портрете. Ее муж, Порфирий Маляревский, становится управляющим имением.
Родственникам жены Николай Сергеевич оставит большую часть своего миллионного состояния. Брату Ивану достанется скудная доля, да и ту придется получать через суд.
Последним владельцем Тургенево был Антон Лауриц, зять Маляревских. Уроженец Лифляндской губернии, он в 20-е годы ХХ века служил в министерстве обороны Эстонии. Ниточка снова тянется в Балтию…
Рижские письма
В отделе рукописей и редких книг Академической библиотеки Латвийского университета хранится уникальный документ — собственноручное письмо Ивана Тургенева Георгу Шварцу, брату его любимой Анны. Из своего французского далека он интересуется «о теперешнем месте нахождения моего брата г-на Николая Тургенева», поскольку давно не имеет известий о нем.
А вот Георг Шварц имеет… В библиотеке находится 211 (!) писем Николая Тургенева рижской родне — Георгу и его детям — Георгу-младшему и Симониде. Вот они лежат передо мной…
Библиотекарь просит заполнить формуляр. Он пуст, и это значит, что письма Николая Тургенева до меня никто не читал — как минимум в последние полвека.
Осторожно перелистываю пожелтевшие страницы, привыкая к изящному, с завитушками, почерку. Через толщу лет доносится голос Николая Сергеевича, вспоминающего свою Анну: «…никто более меня не знает ее доброго, сострадательного сердца… Всем, что во мне есть хорошего, я обязан ей».
Николай Сергеевич оплачивает обучение племянника Георга на инженерном факультете Дрезденского университета. В своих письмах «любезному Жоржу», проникнутых душевным теплом и заботой, он отечески наставляет юношу. Просто роман в письмах на тему «Отцы и дети», который публикуется впервые:
«Посылаю тебе мое благословение на избранную тобой карьеру, молю Бога, чтобы он укрепил тебя на тяжелом пути изучения предметов, тебе совершенно не знакомых».
«Программу твоего политехнического института с таблицами я получил. Ну скажу тебе — программа важная! Если ты успешно сложишь в голову хоть часть курса, то у тебя всегда сытый кусок хлеба будет, а если весь курс, то ты добудешь такой каравай, что тебе и не снился никогда».
«Кончивши курс, на который я тебя отправлять в память о твоей покойной тетке (Анне Шварц. — Авт.), тебе всюду откроется дорога».
«Я в конце этого месяца вышлю вдобавок к тем деньгам, которые я просил батюшку тебе передать, еще 100 рублей на английские уроки…. Поверь мне, ты скажешь большое спасибо за настойчивое мое требование, чтобы ты учился по-английски…Надеюсь, что ты и Надю (сестру. — Авт.) приклонишь к своим английским урокам».
«Тебе надо подружиться с товарищами, англичанами и американцами, которые у вас в институте основной контингент, да дать себе слово иначе не говорить с ними, как только по-английски… Без практики живому языку выучиться никогда нельзя… Сперва, конечно, будет дурно, а с каждым днем лучше».
«Прошу тебя не бросать русского языка, который тебе будет необходим, потому что ты готовишь себя, преимущественно, для своего отечества… у нас техников нет, и в них большая нужда. Нигде не найдешь ты лучшего случая применить свои технические познания, как здесь. …твоя карьера зовет тебя в Россию».
«Хотелось бы знать, занимаются ли у вас практическим применением инженерных наук… У нас, например, в Земледельческом училище, профессор с учениками ездили на разные фермы и там проходили на практике все прочитанное зимой теоретически… Думаешь ли ты с товарищами произвести прогулку по фабрикам, которых в окрестностях Дрездена пропасть?»
«Я вижу, что тебе очень хочется попутешествовать по Швейцарии, куда отправляются твои товарищи. Поездка будет стоить сто талеров, что, по нынешнему курсу, дорого, но в награду за твое прилежание и хорошее поведение я согласен подарить тебе эти деньги с тем, чтобы по возвращении ты прислал подробный отчет на многих листах, что тебе не трудно будет сделать — Швейцария так живописна…
Нужен ли тебе летний костюм?.. Я тебе пришлю денег»…
«Учись, душа моя, хорошенько, а в случае какой-либо надобности обращайся прямо ко мне. Я всегда готов помочь тебе словом и делом».
«Теперешние твои годы лучшие в твоей жизни. Пусть они будут преисполнены лучшими воспоминаниями».
«Я знаю, что многое, что говорю тебе, может быть не по сердцу и не по шерсти, но прибери мои письма и со временем ты проверишь правду моих слов».
Николай Тургенев мог быть доволен своим племянником…Георг Шварц не только сохранил его письма, но и передал их в библиотеку — на вечное хранение. Советы дяди пошли ему на пользу. Он стал специалистом своего дела, востребованным при всех властях.
Проучившись несколько лет в Германии, в январе 1880 года Георг поступил в Рижский политехнический институт, который окончил с дипломом инженера. Работал на строительстве Рижско-Псковской железной дороги, руководил прокладкой шоссейных дорог, занимался строительством казарм. Награжден орденом св. Станислава, Анны и Владимира. Целых 30 лет — начиная с 1898 года и до конца жизни — был профессором РПИ.
Георг Шварц-младший умер в 1928 году в Риге. Его жена Мария с племянниками в канун Второй мировой войны уехала в Германию. На этом след рижских родственников Тургенева теряется.
А память о любви остается…
P. S. Большое спасибо за предоставленные материалы сотрудникам Орловского объединенного государственного музея И. С. Тургенева Вере Ветровой и Елене Мельник, директору Академической библиотеки ЛУ Венте Коцере, профессору РТУ Алиде Зигмунде.
Ксения Загоровская/»Открытый город»
Фото автора и из архива.
12 3 4 5 6 7 …72
Федор Александрович Абрамов
Дом
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Пес лежал в воротах сарая – передние лапы вытянуты, уши торчком и глаза – угли раскаленные: так и сверлят, так и буравят баранью тушку, над которой в глубине сарая хлопотал хозяин. Спина и шея у Михаила взмокли: нет ничего хуже обдирать сопревшее межножье да седловину. Кожа тут прикипела намертво, каждый сантиметр прорезать надо. А кроме того, мухи, оводы окаянные – поедом едят, глаза слепят. Зато уж когда все это прошел да миновал подбрюшье – одно удовольствие: нож в балку над головой и давай-давай орудовать одними руками…
Снятую, вывернутую наизнанку овчину – ни единого пореза, блеск работа он собрал в большой, расползающийся под руками ком, отложил в сторону, затем, неторопливо повертывая подвешенного на распялке барана, хозяйским, оценивающим взглядом обвел его тугие, белые от сала бока.
– А барька-то ничего, а?
Не жена ответила – пес клацнул голодными зубами. Он вырубил хвост, не глядя бросил Лыску и опять залюбовался забитой животиной.
– Баран-то, говорю, подходящий. Чуешь?
– До осени подождал бы, еще подходящей был.
– До осени! Может, еще до зимы, скажешь?
– Да как! Кто это под нож скотину в такую жару пущает?
– А братья приедут, чего на стол подашь? Банки?
Закипая злостью, Михаил одним взмахом ножа – сверху донизу – распустил брюшину. Горячие, дымящиеся внутренности лавой хлынули на свежую, вновь подостланную солому.
– Воды!
За стеной тяжело, всей коровьей утробой вздохнула Звездоня – замаялась, бедная, от жары, – взвизгнул нетерпеливо Лыско. А хозяйка, его помощница? Михаил круто повел потной головой и вдруг размяк, разъехался в улыбке: белые подколенки жены, склонившейся над ведром, увидел. Загоревшийся глаз сам собою зашарил по затемненным закрайкам сарая и уперся в дальний угол, заваленный травой. Травка мяконькая, свеженькая – час какой назад в огороде накосил…
– Куда лить-то? Чего молчишь?
– Погоди маленько… Перекур надо…
– Перекур? Это барана-то с перекуром резать?
– А чего? Передохнуть завсегда полезно… – Михаил хохотнул и остальное досказал взглядом.
Раиса попятилась к двери, за которой томилась корова, с неподдельным ужасом замахала обеими руками:
– Ты в эту Москву съездил… рехнулся…
– Дура пекашинская! С тобой и пошутить нельзя!
Михаил забегал, заметался по сараю, наткнулся на пса и со всего маху закатил пинок: не лезь на глаза, когда не просят!
2
Круто забирал июль.
Мясо, пока рубил да солил, кое-где прихватило жаром. Но еще больше удивил Михаила погреб. Весной снег набивал – ступой толок да утрамбовывал, и вот за какой-то месяц сел на добрый метр, так что, когда он стал опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку.
На улице Михаил разделся до пояса, с наслаждением поплескался водой из ушата (не нагрелась еще, в тени стояла), затем, войдя в кухню, переоделся. Рабочие парусиновые штаны, измазанные свежей кровью, вынес в кладовку и, натягивая на себя домашние брючонки, легкие, вьетнамского подела, довольно улыбнулся: месяца не гулял в столице, а поправился – насилу застегнул верхнюю пуговицу.
Дрова в печи уже прогорели, малиновые отсветы полыхали в окне напротив, но где хозяйка? Собирается она варить-печь? Для мух выставила на стол печень и почки?
Михаил заглянул на одну половину – на всю катушку радио, заглянул на другую – и у него дыбом встала бровь: Раиса давила кровать.
– Это еще что за новая мода – с утра на вылежке?
Взвыли, стоном простонали пружины – Раиса рывком отвернулась к стене: разговаривать с тобой не хочу. Он не стал больше сорить словами. Подошел, сгреб жену за кофту на груди, повернул к себе. лицом. Холодом, стужей крещенской дохнуло на него от серых немигающих глаз. А ведь было время лето жило в этих глазах. Круглый год, всю зиму. И, помнится, покойный Федор Капитонович, провожая их в день свадьбы, так и сказал: «Не дочерь – лето ты уводишь из моего дома».
Нелады у них, конечно, бывали и раньше – как всю жизнь проживешь гладко? – но чтобы сиверко задул на месяцы – нет, этого еще не бывало. Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная. Из-за Варвары, а точнее сказать, из-за столбика, который он поставил весной на ее могиле. Забыта могила. Дунярка, Варварина наследница, каждое лето приезжает в Пекашино, по два, по три месяца живет в теткином доме со своим выводком (девятерых отгрохала, рекорд по сельсовету держит), а чтобы осиротевшую могилу кое-как оприютить – нет, подожди, тетушка, поважнее дела есть. И вот он ждал-ждал, когда племянница о покойнице вспомнит (самый захудалый столбик на всем кладбище), да и не выдержал: весной, когда Раиса как-то уехала в район в больницу, и поставил пирамидку. Узнала. Кто-то брякнул из дорогих землячков.
– Мясо-то, говорю, само в печь залезет, але соседей позвать?
– Отстань! Видеть не могу я это мясо, а не то что варить.
– Больно заелась, вот что. Старики-то не зря, видно, посты ране устраивали.
Раиса – не сразу – сказала:
– Может, мне в больницу, в район съездить?
– Тебе в больницу? Зачем?
– Зачем, зачем… Зачем бабы в больницу ездят…
Какое-то время он озадаченно, выпучив глаза, смотрел на раздобревшую, вошедшую в полную бабью силу жену – какая еще ей больница? – и вдруг все понял.
– Дак это ты… – Дух захватило у него от радости. – Давай, давай! Солдаты надоть. За мир будем бороться.
– Весело, ох как весело! Только зубы и скалить. Девки обе невесты, а матерь с брюшиной переваливается. Что о нас подумают?
– А это уж ихнее дело! Пущай что хотят, то и думают, – отчета давать не собираюсь. Сказано тебе было: до тех пор рожать будешь, покамест парня не родишь. И нечего бочку взад-вперед перекатывать.
Больше Раиса не перечила. Но, вставая с кровати, все-таки кусанула:
– Парни-то ноне тоже не золото. Не дай бог как ваш Федор, по тюрьмам смалу пошел.
– Ладно! Хозяйка! Гости приедут, а у тебя и на стол подать нечего.
– Што, я ведь не спала, не гуляла. Рабочий человек…
И это камешек в его огород. Тебе ли, мол, укорять меня? Целый месяц по городам шатался, бездельничал, а я-то всю жизнь без передышки на маслозаводе ломлю. И где-то в глубине души признавая правоту жены, Михаил примирительно сказал:
– Гостей, думаю, звать не будем. Разве что Калину Ивановича… – Он помолчал немного, хрустнул пальцами. – А с той как будем? Сразу сказать але как?
– Папа, папа, автобус не в час, а в два будет! – В спальню, вся запыхавшись, влетела Анка, худущая, длинноногая и зеленые глаза навыкате, как у козы.

Отец писателя. Происходил из многодетной семьи униатского священника Андрея села Войтовцы Подольской губернии. 11 декабря 1802 г. был определен в духовную семинарию при Шаргородском Николаевском монастыре. 15 октября 1809 г. уже из Подольской семинарии, к которой к тому времени была присоединена Шаргородская семинария, отправлен, по окончании класса риторики, через Подольскую врачебную управу в московское отделение Медико-хирургической академии на казенное содержание. В августе 1812 г. Михаил Андреевич был командирован в военный госпиталь, с 1813 г. служил в Бородинском пехотном полку, в 1816 г. был удостоен звания штаб-лекаря, в 1819 г. переведен ординатором в Московский военный госпиталь, в январе 1821 г. после увольнения в декабре 1820 г. из военной службы, определен в Московскую больницу для бедных на должность «лекаря при отделении приходящих больных женск<ого> пола». 14 января 1820 г. Михаил Андреевич женился на дочери купца III гильдии Марии Федоровне Нечаевой. 30 октября (11 ноября) 1821 г. у них родился сын Федор Михайлович Достоевский. (Подробнее о биографии Михаила Андреевича до рождения Достоевского см.: Федоров Г.А. «Помещик. Отца убили…», или История одной судьбы // Новый мир. 1988. № 10. С. 220—223). 7 апреля 1827 г. Михаил Андреевич награжден чином коллежского асессора, 18 апреля 1837 г. произведен в коллежские советники со старшинством и 1 июля 1837 г. уволен со службы. В 1831 г. Михаил Андреевич купил в Каширском уезде Тульской губернии имение, состоящее из села Даровое и деревни Черемошна.
Большая семья московского лекаря больницы для бедных (в семье детей — четыре брата и три сестры) была совсем не богата, а лишь очень скромно обеспечена самым необходимым и никогда не позволяла себе никаких роскошеств и излишеств. Михаил Андреевич, строгий и требовательный к себе, был еще строже и требовательнее к другим, и прежде всего к своим детям. Его можно назвать добрым, прекрасным семьянином, гуманным и просвещенным человеком, о чем и рассказывает, например, в своих «Воспоминаниях» его сын А.М. Достоевский.
Михаил Андреевич очень любил своих детей и умел их воспитывать. Своим восторженным идеализмом и стремлением к прекрасному писатель больше всего обязан отцу и домашнему воспитанию. И когда его старший брат М.М. Достоевский писал уже юношей отцу: «Пусть у меня возьмут все, оставят нагим меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир!» — он знал, конечно, что отец поймет его, так как и он был не чужд идеализма. Но ведь эти слова мог бы написать отцу и Федор Достоевский, вместе со старшим братом бредивший в юности И.Ф. Шиллером, мечтавший обо всем возвышенном и прекрасном.
Эту характеристику можно перенести и на всю семью Достоевских. Отец не только никогда не применял к детям телесного наказания, хотя главным средством воспитания в его время были розги, но и не ставил детей на колени в угол и при своих ограниченных средствах все же не отдавал никого в гимназию только по той причине, что там пороли.
Жизнь семьи Достоевских была полная, с нежной, любящей и любимой материю, с заботливым и требовательным (иногда и излишне требовательным) отцом, с любящей няней Аленой Фроловной Крюковой. И все же гораздо важнее не фактическая обстановка в Мариинской больнице, точно воспроизведенная в «Воспоминаниях» А.М. Достоевского, а восприятие этой обстановки писателем и память о ней в его творчестве.
Вторая жена Достоевского А.Г. Достоевская говорила, что ее муж любил вспоминать о своем «счастливом и безмятежном детстве», и, действительно, все его высказывания свидетельствуют об этом. Вот как, например, Достоевский впоследствии в разговорах с младшим братом, Андреем Михайловичем, отзывался о своих родителях: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые… и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами, нам с тобою не быть, брат!..» В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский отмечал: «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным».
Отец заставлял детей читать не только Н.М. Карамзина, но и В.А. Жуковского, и молодого поэта А.С. Пушкина. И если Достоевский в 16 лет пережил смерть поэта как великое русское горе, то кому он этим обязан, как не своей семье, и прежде всего отцу, рано привившему ему любовь к литературе. Именно в детстве следует искать истоки того поразительного преклонения перед гением А.С. Пушкина, которое Достоевский пронес через всю жизнь. И вдохновенное, пророческое слово о нем, сказанное Достоевским за полгода до смерти, в июне 1880 г., на открытии памятника А.С. Пушкину в Москве, корнями уходит в детство писателя, и связано с именем его отца.
Достоевский на всю жизнь сохранил светлую память о своем детстве, однако еще важнее, как эти воспоминания отразились в его творчестве. За три года до смерти, начав создавать свой последний гениальный роман «Братья Карамазовы», Достоевский вложил в биографию героя романа, старца Зосимы, отголоски собственных детских впечатлений: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал узнать. Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками под названием «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю».
Эта черта подлинно автобиографическая. Достоевский действительно учился, как свидетельствует в своих «Воспоминаниях» А.М. Достоевский, читать по этой книге, и когда лет за десять до смерти писатель достал точно такое же издание, то очень обрадовался и сохранил его как реликвию.
«Братья Карамазовы» кончаются речью Алеши Карамазова, обращенной к его товарищам — школьникам, у камня после похорон мальчика Илюшечки: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорили про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» (Воспоминания о безмятежном детстве помогли Достоевскому впоследствии перенести эшафот и каторгу).
Родители давно задумывались о будущем старших сыновей, знали о литературных увлечениях Федора и Михаила и всемерно поощряли их. После учебы у Л.И. Чермака — в одном из лучших пансионов Москвы, славившимся «литературным уклоном», — Михаил и Федор Достоевские должны были поступить в Московский университет, однако смерть матери и материальная нужда изменили эти планы.
После смерти от чахотки тридцатисемилетней М.Ф. Достоевской на руках мужа осталось семеро детей. Смерть жены потрясла и сломила Михаила Андреевича, страстно, до безумия любившего жену. Еще не старый, сорокавосьмилетний, ссылаясь на трясение правой руки и ухудшавшееся зрение, он отказался от предложенного ему, наконец, повышения по службе со значительным окладом. Вынужден был подать в отставку, не выслужив двадцатипятилетия, и оставить квартиру при больнице (своего дома в Москве у них не было). Тогда же, как-то вдруг, осознается материальный кризис семьи; дело не просто в бедности — предвидится разорение. Одно их небольшое имение, более ценное, заложено и перезаложено, теперь та же судьба ждет и другое имение — совсем ничтожное.
Московский университет давал образование, но не положение. Для сыновей бедного дворянина был выбран иной путь. Михаил Андреевич решил определить Михаила и Федора в Главное инженерное училище в Петербурге и в середине мая 1837 г. отец отвозит братьев в Петербург.
С отцом Достоевский больше не увидится. Через два года придет письмо отца о близящемся разорении, а за письмом — известие о его безвременной кончине. Достоевский напишет брату Михаилу 16 августа 1839 г.: «…Теперь состоянье наше еще ужаснее <…> есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер?»
В образе отца Вареньки Доброселовой в первом произведении Достоевского «Бедные люди» видятся черты Михаила Андреевича, да и стилистика писем Макара Девушкина родственна манере писем отца писателя». «Мне жаль бедного отца, — писал Достоевский из Петербурга в Ревель старшему брату Михаилу. — Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он. Горько до слез, что нечем его утешить».
Замкнутости и уединенности Достоевского в Инженерном училище способствовало не только ранее предчувствие своего писательского предназначения, но и страшное известие, полученное им летом 1839 г.: крепостные крестьяне имения в Даровом убили в поле 6 июня 1839 г. Михаила Андреевича за жестокое с ними обращение. Это известие потрясло юношу. Ведь совсем недавно умерла его мать. Он вспомнил, как она любила отца настоящей, горячей и глубокой любовью, вспомнил, как бесконечно любил ее отец, вспомнил свое безмятежное детство, отца, привившего ему любовь к литературе, ко всему высокому и прекрасному (А.М. Достоевский пишет, что отец их был «в семействе всегда радушным, а подчас и веселым»). Нет, в насильственную смерть отца он так и не мог поверить до конца своих дней, никогда не мог примириться с этой мыслью, ибо известие о расправе над отцом — жестоким крепостником — противоречило тому образу отца — гуманного и просвещенного человека, который Достоевский навсегда сохранил в своем сердце. Вот почему 10 марта 1876 г. в письме к брату Андрею Достоевский так высоко отозвался о своих родителях: «…Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все их уклонения…», а мужу сестры Варвары П.А. Карепину Достоевский писал 19 сентября 1844 г.: «…Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем Вы Ваших…»
18 июня 1975 г. в «Литературной газете» появилась статья Г.А. Федорова «Домыслы и логика фактов», в которой он показал на основе найденных архивных документов, что Михаил Андреевич Достоевский не был убит крестьянами, а умер в поле около Дарового своей смертью от «апоплексического удара».
Архивные документы о смерти Михаила Андреевича свидетельствуют о том, что естественный характер смерти был зафиксирован двумя врачами независимо друг от друга — И.М. Шенроком из Зарайска, Рязанской губернии, и Шенкнехтом из Каширы, Тульской губернии. Под давлением соседнего помещика П.П. Хотяинцева, выразившего сомнение в факте естественной смерти Михаила Андреевича, через некоторое время к властям обратился отставной ротмистр А.И. Лейбрехт. Но и дополнительное следствие подтвердило первоначальное заключение врачей и кончилось «внушением» А.И. Лейбрехту. Тогда появилась версия о взятках, «замазавших» дело, причем подкупать надо было много разных инстанций. А.М. Достоевский считает невозможным, чтобы нищие крестьяне или беспомощные наследники могли повлиять на ход дела. Остался единственный аргумент в пользу сокрытия убийства: приговор повлек бы ссылку мужиков в Сибирь, что отрицательно сказалось бы на бедном хозяйстве Достоевских, поэтому наследники и замяли дело. Однако и это неверно. Никто дела не заминал, оно проходило все инстанции. Слухи же о расправе крестьян распространил П.П. Хотяинцев, с которым у отца Достоевского была земельная тяжба. Он решил запугать мужиков, чтобы они были ему покорны, так как некоторые дворы крестьян П.П. Хотяинцева помещались в самом Даровом. Он шантажировал бабку писателя (по матери), приезжавшую узнать о причинах случившегося. А.М. Достоевский указывает в своих «Воспоминаниях», что П.П. Хотяинцев и его жена «не советовали возбуждать об этом дела». Вероятно, отсюда и пошел слух в семействе Достоевских о том, что со смертью Михаила Андреевича не все обстояло чисто.
Невероятное предположение дочери писателя Л.Ф. Достоевской о том, что «Достоевский, создавая тип Федора Карамазова, вероятно, вспомнил скупость своего отца, которая причинила его юным сыновьям такие страдания и так возмущала их, и его пьянство, а также и то физическое отвращение, которое оно внушало его детям. Когда он писал, что Алеша Карамазов не чувствовал этого отвращения, а жалел своего отца, ему, возможно, вспоминались те мгновения сострадания, которое боролось с отвращением в душе юноши Достоевского», — дало толчок появлению целого ряда фрейдистских работ, ложно и тенденциозно обыгрывающих этот факт мнимого сходства отца писателя и старика Карамазова; см., напр.: Нейфельд И. Достоевский: Психологический очерк. Л., 1925), вышедшую, кстати, под редакцией знаменитого психиатра и, наконец, сенсационно абсурдную статью «Dostojewski un die Vatertotung» в книге «Die Urgestalt der Bruder Karamazoff» (Munchen, 1928) самого Зигмунда Фрейда, доказывающего, что Достоевский сам желал смерти своего отца (!).
Критик В.В. Вейдле справедливо замечает по этому поводу: «Фрейд сказал ясно: «У нас нет другого способа побороть наши инстинкты, кроме нашего рассудка», какое же место остается тут для такой противорассудочной вещи, как преображение? Однако без преображения искусства нет, и его не создать одними инстинктами или рассудком. Потемки инстинкта и рассудочное «просвещение», только это видел и Толстой, когда писал «Власть тьмы», но художественный его гений подсказал ему всё же под конец неразумное, хотя и не инстинктивное покаяние Никиты. Искусство живет в мире совести, скорее, чем сознание; этот мир для психоанализа закрыт. Психоанализ только и знает, что охотиться за инстинктами, нащупывать во тьме подсознания все тот же универсальный механизм <…>. В одной из недавних своих работ Фрейд не только приписал Достоевскому желание отцеубийства, осуществленное через посредство Смердякова и Ивана Карамазова, но и земной поклон старца Зосимы <…> объяснил, как бессознательный обман, как злобу, прикинувшуюся смирением. Из этих двух «разоблачений» первое, во всяком случае, не объясняет ничего в замыслах Достоевского, как художника, второе обличает полное непонимание поступка и всего образа старца Зосимы. Психоанализ бессилен против «Братьев Карамазовых»» (Вейдле В.В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Париж, 1937. С. 52—53).
К этому абсолютно верному замечанию В.В. Вейдле можно лишь добавить, что психоанализ бессилен вообще против христианского духа, против христианского искусства, каким является все искусство Достоевского. А.М. Достоевский записал в своем дневнике: «Отец похоронен в церковной ограде , рядом с Даровым. На могиле его лежит камень без всякой подписи и могила окружена деревянною решеткою, довольно ветхою». В настоящее время могила не сохранилась и церковь разрушена (см.: Белов С.В. Пять путешествий по местам Достоевского // Аврора. 1989. № 6. С. 142). Есть предположение, что характер отца Вареньки в «Бедных людях» напоминает характер Михаила Андреевича, а антагонизм между отцом Вареньки и Анной Федоровной воспроизводит реальные отношения между Михаилом Андреевичем и сестрой его жены А.Ф. Куманиной.
Известны 8 писем Достоевского к отцу, написанных совместно с братьями (из них 3 — рукою Достоевского, остальные написаны М.М. Достоевским) и 6 писем к нему самого Достоевского за 1832—1839 гг., а также два письма Михаила Андреевича к Достоевскому за 1837 и 1839 гг. — одно к обоим старшим сыновьям, другое отдельно к Достоевскому.